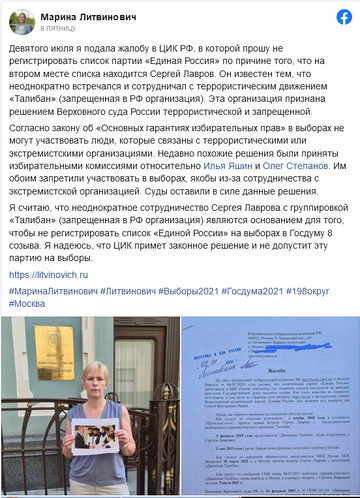Суникол написал(а):Ну что вы чушь то городите? Почитайте историю Китая - ознакомьтесь с темой..
Отредактировано Суникол (Сегодня 07:09:18)
а чего ее читать....
ЖУРНАЛ
Главы: Китай и Европа. Анализ и сопоставления
Издательство Института Гайдара
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
24234
Отрывок из книги «Рычаг богатства» историка и экономиста Джоэля Мокира о ключевых изобретениях и инновациях, повлиявших на развитие общества с древних времен
Совместно с Издательством Института Гайдара мы публикуем отрывок из книги «Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс» американского историка экономики, профессора экономической истории Северо-Западного университета (США) Джоэля Мокира, посвященной причинам застоя инновационных обществ и факторам, оказавшим влияние на развитие технологической креативности.
Величайшей загадкой в истории техники является неспособность Китая сохранить свое техническое превосходство. За долгие века своей истории до 1400 г. Китай набрал поразительный технологический импульс, развиваясь, насколько мы можем судить, не менее, а то и более быстро, чем Европа. Многие китайские инновации со временем проникли в Европу, будучи либо непосредственно заимствованы, либо изобретены заново. Далее перечисляются некоторые из этих китайских достижений.
1. Важные инновации в рисоводстве революционизировали китайское сельское хозяйство. Более уверенное применение технологии сева на заливных полях позволило резко расширить разведение риса на юге страны. Овладение приемами гидротехники (дамбы, канавы, плотины, польдеры, насыпи) сделало возможным осуществлять осушение и ирригацию земель. Применяя сложные шлюзы, насосы и нории (водоподъемное устройство с укрепленными на цепи черпаками, приводящееся в действие силой самого потока и потому представляющее собой полностью автоматический насос), китайцы могли контролировать расход воды и предотвращать заиление. Согласно некоторым оценкам в X–XV вв. число гидротехнических сооружений в Китае увеличилось семикратно, в то время как население в лучшем случае удвоилось (Perkins, 1969, p. 61).
Журнал: Главы: Китай и Европа. Анализ и сопоставления
Журнал: Главы: Китай и Европа. Анализ и сопоставления
2. Старое китайское рало было вытеснено в VI в. до н. э. железным плугом, который переворачивал пласт земли и состоял из одиннадцати отдельных частей, чье взаимное расположение позволяло задать требуемую глубину вспашки. Впоследствии (в VIII или IX вв.) такой плуг был приспособлен к пахоте на заливных рисовых полях.
3. В эпоху династий Сун (960–1126 гг.) и Юань (1127–1361 гг.) появились рядовая сеялка, грабли и борона с большими зубьями. Китайские земледельцы осваивали новые удобрения, такие как городские нечистоты, грязь, известь, конопляные стебли, зола и речной ил. В борьбе с насекомыми и вредителями с большим успехом применялись химические средства и биологические методы. Уникальной чертой китайского сельского хозяйства являлось огромное количество сельскохозяйственных трактатов и справочников. В анналах династии Суй (581–617 гг.) упоминается существование восьми трактатов по ветеринарной медицине. Позже появились такие шедевры, как «Основы земледелия и шелководства» и фундаментальный «Трактат о сельском хозяйстве» Ван Чэня (изданный в 1313 г.). В книге Чэня содержится 300 очень подробных иллюстраций, дающих возможность реконструировать изображенные на них приспособления.
4. Китай на полтора с лишним тысячелетия обгонял Европу в использовании доменных печей, позволявших выплавлять чугун и получать из него чистое железо. Чугунное литье было известно в Китае уже к 200 г. до н. э.; в Европе оно появилось самое раннее в конце XIV в. Хотя точный момент изобретения чугуна в Китае неизвестен, несомненно, что в Средние века Китай намного превосходил Европу в выплавке чугуна даже в расчете на душу населения.
Журнал: Главы: Китай и Европа. Анализ и сопоставления
В основе китайских успехов лежало применение мехов двойного действия, оснащенных поршнями и приводившихся в движение водой, угля, огнеупорной глины (позволявшей достигать очень высоких температур), а также обширные познания в металлургии. Кроме того, Китаю повезло в том смысле, что железная руда в этой стране отличается высоким содержанием фосфора, снижающего температуру плавления железа и облегчающего литье. Также китайцы обгоняли Запад в производстве стали, которую получали с использованием приемов совместной переплавки и оксидирования.
Журнал: Главы: Китай и Европа. Анализ и сопоставления
5. В текстильной отрасли прялка появляется примерно в одно и то же время и в Китае, и на Западе — в XIII в. (возможно, в Китае несколько раньше), — но совершенствуется в Китае гораздо быстрее и существеннее. Китайцы использовали централизованный механический привод в производстве тех видов пряжи, которые относительно легко поддавались механизации, таких как шелк и пенька, а также пряжа из рами (китайского волокнистого растения). В хлопчатобумажной индустрии задача применения централизованных источников энергии была решена лишь во время британской промышленной революции, однако китайцы задолго до этого сумели создать небольшую прялку с несколькими веретенами, похожую на «Дженни» Харгривса. Сложные ткацкие станки появились еще раньше: станки, позволявшие ткать сложные узоры на шелке, использовались в эпоху Хань (около 200 г. до н. э.), а впоследствии применялись и при производстве хлопчатобумажных тканей.
Журнал: Главы: Китай и Европа. Анализ и сопоставления
С помощью механических станков осуществлялась очистка хлопка. Похоже, что к концу Средних веков в Китае сложились условия для процесса, имевшего невероятное сходство с великой британской промышленной революцией.
Журнал: Главы: Китай и Европа. Анализ и сопоставления
6. Внедрение водяного колеса в Китае и в Европе шло почти одновременно. Рейнольдс (Reynolds, 1983) показывает, что до III в. н. э. китайцы главным образом пользовались водяным рычагом — примитивным устройством, создававшим возвратнопоступательное движение посредством стержня с лотком на конце, в который наливалась вода, вследствие чего он опрокидывался. Уже в начале VIII в. н. э. китайцы строили гидравлические молоты, а в 1280 г. они полностью перешли на вертикальные водяные колеса.
Журнал: Главы: Китай и Европа. Анализ и сопоставления
7. Столетиями считалось, что китайцы научились измерению времени у европейцев. Эту точку зрения опровергли Нидхэм и его коллеги, показавшие, что в эпоху династии Сун, в X и XI вв., китайские часовщики строили сложные и хитроумные водяные часы с регулятором хода (хотя он отличался от корончато-штыревого механизма, применявшегося в европейских часах-ходиках). Вершиной китайских достижений в измерении времени стало строительство знаменитых часов Су Суна в 1086 г. Вероятно, они представляли собой самые сложные из когда-либо сооруженных водяных часов, достигая в высоту 40 футов и не только показывая время, но и отображая самые разные астрономические явления, такие как положение луны и планет. Хотя не вполне верно считать, что китайские водяные часы предшествовали европейским механическим часам, эти инструменты своей сложностью, тщательностью изготовления, продуманностью конструкции и точностью хода далеко превосходили все, что могла предложить Европа около 1100 г. (Landes, 1983, p. 17–36).
8. Не менее впечатляющими были и китайские успехи в сфере кораблестроения. То, что китайцы изобрели компас (около 960 г.), знает каждый школьник, однако компас был далеко не единственным их достижением. В том, что касается конструкции кораблей, китайцы опережали европейцев на много столетий. Их океанские джонки были намного крупнее и превосходили по своим мореходным свойствам лучшие европейские суда, строившиеся до 1400 г. Китайские корабли имели обшивку вгладь (с планками, уложенными стык в стык), были оснащены множеством мачт, но при этом строились без киля, ахтерштевня и форштевня. Их корпуса были разделены переборками на водонепроницаемые отсеки, не позволявшие кораблю утонуть в случае течи. Нидхэм высказывает догадку, что на эту идею китайцев натолкнули поперечные перегородки в бамбуковом стебле (Ronan and Needham, 1986, p. 66). Несмотря на очевидные преимущества такой системы, она не применялась на Западе до XIX в. Нидхэм (Needham, 1970, p. 63) делает вывод о том, что китайские корабли имели «намного более прочную конструкцию, чем мы встречаем у любой другой цивилизации».
Кроме того, вплоть до создания трехмачтовых каравелл в середине XV в. ни одно судно не могло сравняться с китайскими кораблями своей маневренностью. Еще в III в. н. э. джонки оснащались трапециевидными люгерными парусами, позволявшими ходить против ветра аналогично западному латинскому парусу. Кроме того, китайцы придумали судовой руль задолго до того, как тот появился в Европе — достижение тем более замечательное в силу того, что китайские корабли, собственно говоря, не имели ахтерштевня, к которому крепится такой руль.
Журнал: Главы: Китай и Европа. Анализ и сопоставления
9. Китайцы первыми научились делать бумагу, которая стала известна на Западе лишь спустя тысячу с лишним лет. По традиции считается, что бумагу около 100 г. н. э. изобрел Цай Лунь, однако современные исследования показывают, что бумагой пользовались уже за несколько веков до него (Tsuen-Hsuin, 1985, p. 40–41). Реально заслуга Цай Луня состоит в том, что он придумал способ изготовления бумаги из древесной коры. На бумаге не только писали: высококачественная и прочная бумага применялась для производства одежды, обуви и боевых доспехов. За сотни лет до того, как бумажные деньги и обои вошли в европейский обиход, они уже были распространены в средневековом Китае, а еще в 590 г. китайцы широко пользовались туалетной бумагой (Needham, 1970, p. 373). Книгопечатание, вероятно, началось в Китае в конце VII в. Поначалу китайцы применяли ксилографию — технику печати, при которой текст в зеркальном виде вырезается на деревянной доске, — но уже в 1045 г. н. э. Пи Шэн изобрел разборный шрифт, сделанный из фарфора. Металлический разборный шрифт использовался в Корее около 1240 г. Знал ли Гутенберг об этих изобретениях — вопрос спорный; факты и логика убеждают нас в обратном. Но даже если европейцы изобрели разборный шрифт независимо от китайцев, это ничуть не умаляет китайских достижений.
10. К периоду 700–1400 гг. относятся многие другие примеры китайской изобретательности. В эпоху Тан (618–906 гг.) в Китае появился настоящий фарфор. В начале XV в. была построена знаменитая фарфоровая пагода в Нанкине, имевшая в высоту девять этажей (более 260 футов); ее внешние стены были обложены кирпичами из лучшего белого фарфора. В Китае были развиты такие отрасли химического производства, как изготовление лаков, взрывчатки, лекарств, медного купороса (применявшегося как инсектицид) и солей металлов. Идея прикрепить к носилкам колесо вместо второго носильщика, очевидно, до XII в. в Европе никому не приходила в голову, в то время как в Китае тачки были известны уже в 232 г., а может быть, и раньше. Китайцы сверлили в земле глубокие скважины (до 3000 футов глубиной) для добычи соляного раствора в провинции Сычуань. За много веков до Эйлмера из Мелмсбери они умели летать на воздушных змеях. В военной сфере китайцы на столетия обогнали европейцев, широко применяя арбалеты и камнеметы. Современная конская упряжь, созданная в Китае около 250 г. до н. э., проникла в Европу лишь тысячу лет спустя (Needham, 1965, p. 311–312). Китайцы сделали ряд ключевых открытий в медицине, причем некоторые из них (например, иглоукалывание) были окончательно признаны на Западе лишь в последние десятилетия. В области бытовых удобств и развлечений Запад обязан Китаю такими обыденными, но полезными вещами, как спички, зонтик, зубная щетка и игральные карты. И этот список можно продолжать.
И все же Китай не сумел стать тем, чем в итоге стала Европа. Примерно в то время, к которому относится начало европейского Ренессанса, технический прогресс в Китае замедлился, а затем совершенно прекратился. Вообще говоря, в Китае продолжался экономический рост — но главным образом смитианского типа, основанный на развитии внутренней торговли, монетизации и колонизации южных провинций. Некоторые прежде известные технологии вышли из употребления, а затем были забыты. В других случаях великие начинания так и не были полностью реализованы. Трудно осознать всю грандиозность последствий этого фиаско для всемирной истории. Китайцы, можно сказать, находились в двух шагах от мирового господства, но отказались от него. «В XIV в. Китай стоял на грани индустриализации», — утверждает Джонс (Jones, 1981, p. 160). Однако в 1600 г. китайская техническая отсталость была очевидна для большинства посетителей; к XIX в. ее считали невыносимой сами китайцы.
Это замедление темпа технических изменений не следует понимать как экономическую стагнацию. Вплоть до XIX в. цинский Китай был способен прокормить растущее население при отсутствии сколько-нибудь заметного снижения уровня жизни. Тем не менее этот экономический рост был совершенно лишен технического динамизма эпох Тан и Сун. Момент, когда начался технический упадок Китая, затруднительно определить с приемлемой точностью. Темпы технического развития замедлялись постепенно, приведя к XIX в. к очевидной отсталости Китая по сравнению с Европой. В 1769 г. британец Уильям Хики, посетивший Кантон, отмечал, что китайцы, которых убеждали в том, как выгодно было бы для них освоение европейских технологий, «без колебаний и с крайним хладнокровием признавали наше превосходство, оправдывая свои привычки тем, что „так принято в Китае“» (цит. по: Jones, 1989, p. 16). Степень разрыва между западной и китайской техникой часто иллюстрируют, ссылаясь на «опиумную войну» между Великобританией и Китаем в 1842 г., когда превосходство в военной технике позволило англичанам навязать позорные условия мира огромной и гордой империи. Осознание преимущества Запада, должно быть, служило источником постоянной муки для осведомленных китайских чиновников задолго до этой войны. Перед ними, как выразился Чиполла, стояла дилемма гамлетовского масштаба: следует ли подражать Западу или игнорировать его успехи?
Столетиями Китай предпочитал второй вариант. Начиная с прихода к власти династии Мин в 1368 г. и вплоть до конца XIX в. китайская экономика развивалась главным образом благодаря росту населения, вырубке лесов, коммерческой экспансии и постоянно усиливавшейся интенсификации сельского хозяйства в условиях нараставшей технической стагнации. История Китая убедительно опровергает теорию БозерупСаймона о том, что причиной технического прогресса служит демографическое давление.
Среди тех китайских технологий, что были реально утрачены или забыты, наибольший интерес представляет измерение времени вследствие технологических эффектов перелива, приписываемых изобретению механических часов в Европе. К XVI в. китайцы совершенно забыли о шедевре Су Суна. Не сумели они создать и ничего подобного европейским часам-ходикам. Иезуиты, прибывшие в Китай в 1580-х гг., сообщали, что китайцы знают лишь самые примитивные способы измерения времени, и ловко пользовались часами как приманкой для китайских чиновников, чтобы получить разрешение на въезд в страну. Китайцы выражали радость и изумление при виде нового устройства, но относились к нему как к игрушке, а не как к полезному инструменту.
В сфере океанских плаваний упадок Китая по отношению к Западу наступил внезапно. Менее века спустя после великих путешествий Чжэн Хэ китайские верфи были закрыты, а морские джонки с тремя и более мачтами — запрещены. Китайцы утратили технологию строительства крупных океанских джонок, способных совершать длительные плавания. Менее заметным был упадок в железоплавильной отрасли. Имеются свидетельства о том, что в 1690 г. китайские сталевары применяли холодное дутье, предвосхитив технологию выплавки стали в бессемеровском конвертере. Тем не менее даже такой поклонник китайской техники, как Нидхэм, был вынужден признать, что «в современную эпоху Китай в глазах всего мира предстал страной бамбука и дерева» (Needham, 1964, p. 19). Можно вспомнить и про «сао-чхэ», шелкомотальную машину, использовавшуюся в Китае еще в 1090 г. (Needham, 1965, p. 2, 105–108). Однако к середине XIX в. шелк-сырец, составлявший около 35% китайского экспорта, сматывали исключительно вручную, и вследствие неоднородного качества его приходилось перематывать в Европе (Brown, 1979, p. 553). Также можно привести в пример уголь, добывавшийся в Китае со Средневековья, о чем не без удивления сообщал Марко Поло. В XIX в. добыча угля в Китае велась на примитивном уровне — в неглубоких шахтах, не имевших никаких механических устройств для вентиляции, откачки воды и подъема грузов (Brown and Wright, 1981).
Между Средневековьем и современной эпохой что-то в Китае было утрачено.
Не менее поразительной является неспособность китайских технологий развивать успех в тех сферах, где они были очень близки к прорыву. Например, разборный шрифт не прижился в Китае, где продолжала доминировать печать с деревянных досок. Возможное объяснение состоит в том, что разборный шрифт менее пригоден для иероглифической письменности, чем для более простого западного алфавита. Но как мы можем объяснить, почему китайские прядильщики так и не создали настоящий прядильный станок? Как отмечает Чао (Chao, 1977), станок с несколькими веретенами для получения пряжи из рами так и не нашел применения в хлопчатобумажной индустрии, где использовались небольшие прялки не более чем с тремя-четырьмя веретенами. Принципиальной деталью в «Дженни» Харгривса, отсутствовавшей в китайской хлопкопрядильной отрасли, был вытяжной брус, имитировавший движения человеческой руки и одновременно вытягивавший сразу много нитей пряжи. Трудно поверить в то, что такая относительно простая идея так и не пришла в голову ни одному умному китайцу, но если это когда-либо и случилось, то мы ничего об этом не знаем. Аналогичным образом, в годы династии Мин (1368–1644) китайцы создали ткацкий станок с педалью, но после этого техника ткачества не изменялась до конца XIX в. Китайцы, очевидно, так и не додумались ни до чего подобного «челноку-самолету» — простому устройству, многократно увеличившему производительность труда ткачей.
Китайцы не сумели закрепить свое преимущество и во многих других сферах. Например, в области военной техники китайцы уже в X в. использовали порох в ракетах и бомбах. Но несмотря на их опыт обращения со взрывчаткой и превосходство в металлургии, им явно пришлось учиться артиллерийскому делу у Запада (в середине XIV в.), а позаимствованные из Европы военные технологии не получили у них дальнейшего развития. Когда Китая в 1514 г. достигли португальцы, на китайцев произвели сильное впечатление их мушкеты («франкские устройства») и вертлюжные судовые пушки, немедленно ими перенятые (Needham, 1981, p. 44). Однако китайцам не удавалось поспеть за непрерывным совершенствованием огнестрельного оружия, происходившим на Западе. В XVII в. императорам из династии Мин пришлось обращаться к находившимся в Китае иезуитам, чтобы те помогли им приобрести в Макао пушки, необходимые для защиты страны от маньчжурских монголов. В 1620-е гг. китайские чиновники неоднократно советовали оснастить китайскую армию западной артиллерией. В 1850 г. китайская армия по-прежнему пользовалась оружием XVI в., и лишь поражения, понесенные ею от мятежников-тайпинов во время гражданской войны в 1851–1864 гг., вынудили ее покупать на Западе современное оружие (Hacker, 1977).
резко снизился после 1300 г. и окончательно стал нулевым после 1700 г.». Возможности для развития не использовались. В Китай были завезены европейские поршневые насосы, которые бы очень пригодились в районах поливного земледелия в Северном Китае, например в провинциях Хунань и Шаньси. Однако они редко применялись — по-видимому, из-за высокой стоимости меди. Но даже такое простое устройство, как архимедов винт, который китайцы, узнав о нем от иезуитов, поначалу внедряли с немалой изобретательностью, также не получило большого распространения вследствие дороговизны металла (Elvin, 1973, p. 303). Почему обществу, в Средние века лидировавшему в сфере металлургических технологий, пришлось отказаться от использования простых и полезных механизмов из-за высокой цены материалов, до сих пор является загадкой. Регресс, кажется, наблюдался даже в том, что касается распространения технических знаний: великая техническая энциклопедия «Тхиен Кун Хай Ву» («Использование даров природы»), написанная в 1637 г. Сун Юнсинем («китайским Дидро») и представлявшая собой превосходный обзор китайских технологий от ткачества до гидротехники и обработки нефрита, была уничтожена— по-видимому, из-за политических воззрений автора — и дошла до нас лишь благодаря японскому переизданию. Прославленный «Трактат о сельском хозяйстве» Ван Чэня, изданный в 1313 г., к 1530 г. существовал уже в одном-единственном экземпляре.
Возникает искушение трактовать технологический упадок Китая после 1400 г. как чисто относительное явление. Эпоха, в которую замедлилось техническое развитие Китая, приблизительно приходилась на столетие, в течение которого европейцы научились выплавлять чугун, печатать книги и строить океанские суда. Некоторые историки (см., например: Hucker, 1975, p. 356) пытались объяснить позднейшую отсталость Китая тем, что наблюдавшееся там после 1400 г. снижение темпов технических изменений было вполне естественным, и утверждали, что объяснять нужно поразительно быстрое развитие Европы. Но такой релятивистский подход к изучению китайской истории не может нас вполне удовлетворить. Во-первых, отсутствие прогресса в Китае после 1400 г. удивляет не только в свете европейских успехов, но и в сравнении с достижениями самого Китая в предшествовавшие столетия. Во-вторых, такой сравнительный подход в реальности лишь порождает дальнейшие вопросы. Из европейского опыта как будто бы вытекает, что ничто так не способствует успеху, как успех: медленный, но непрерывный прогресс в начале Средних веков стал фундаментом для достижений эпохи Ренессанса, которые, в свою очередь, вымостили путь для изобретений промышленной революции и полного технического превосходства, достигнутого Европой к 1914 г. Почему такая кумулятивная модель зависимости от пути развития не сработала в Китае? В конце концов, технические проблемы, стоявшие перед обеими цивилизациями: чем удобрять пахотные земли, как производить ткани, как использовать источники кинетической и тепловой энергии и где взять высококачественные материалы для изготовления орудий и для строительства — носили несомненное сходство, а предлагавшиеся решения имели так мало различий, что Нидхэм упорно отстаивает идею о заимствовании инноваций отстающим (Европой) у лидера (Китая).
В аналогичном ключе Брэй (Bray, 1986) утверждает, что явный регресс Китая в некоторой степени представляет собой оптическую иллюзию. Технические изменения в трудоинтенсивной рисоводческой экономике просто принимали иную форму, нежели европейские изобретения, направленные на экономию труда. Рост населения вел к интенсификации сельского хозяйства путем сбора нескольких урожаев в год на одном поле и прочих трудоинтенсивных технологий. Брэй критикует «евроцентричные» модели исторических изменений за то, что они не способны учитывать изменения, происходившие на Востоке. В чем-то ее точка зрения разумна. Рисоводство на заливных полях своей урожайностью на единицу площади далеко превосходило сельское хозяйство Запада. Однако урожайность на душу населения — главный критерий экономических успехов — оставалась в лучшем случае стабильной до 1800 г., когда обвалилась вследствие демографического давления.
О разнице между европейским и китайским опытом можно судить по тому факту, что в 1750–1950 гг. население Европы выросло в 3,5 раза, а население Китая — только в 2,6 раза.
При этом Европа с легкостью могла себя прокормить и производила гораздо больше продовольствия, чем требовалось для поддержания прожиточного минимума, вследствие чего рост уровня жизни в Европе превзошел самые смелые мечты прежних эпох. И напротив, в рисоводческих экономиках Азии и соседних странах, выращивавших пшеницу, бедность и недоедание принимали все более угрожающие масштабы. Европа и Азия отличались не только тем, что в первой был капитализм, а во второй — нет, или тем, что в Европе существовали крупномасштабные зерновые и животноводческие хозяйства, более пригодные для механизации, чем мелкие рисовые чеки. Реальное различие заключалось в том, что Запад, или по крайней мере его существенная часть, обладал технологической креативностью, проявляя ее на протяжении большего времени, чем какое-либо другое общество. В отличие от китайцев, европейцы не просто экономили землю и капитал, используя труд все более и более интенсивно. Европейские изобретения иногда позволяли экономить труд, иногда — экономить землю, иногда не давали никакой экономии. Но их главным свойством было то, что они обеспечивали производство все большего количества все более качественных товаров.
О том, как сложно ответить, в чем заключалась причина отставания Китая, свидетельствуют очевидные недостатки некоторых предлагавшихся решений этой загадки. Многие авторы выдвигали гипотезы, объяснявшие, почему в Китае не появились те или иные конкретные инновации. Например, Чао (Chao, 1977, ch. III) считает, что китайцы не сумели использовать в хлопчатобумажной отрасли прядильный станок типа «Дженни» из-за того, что на таком устройстве должны были одновременно работать три человека, и это делало его непригодным для надомного производства. Эта аргументация неубедительна, но даже если бы она была верна, она бы объясняла всего один аспект намного более широкой проблемы. Также и прекращение океанских плаваний объяснялось политической победой антифлотской клики при императорском дворе после 1430 г. В сельском хозяйстве причину стагнации урожайности по отношению к Европе усматривали в нехватке удобрений. Однако подобные гипотезы лишь порождают новые вопросы, поскольку они не в состоянии ответить, почему китайцы не сумели увеличить поголовье домашнего скота, выращивая фуражные культуры, как это сделали в Европе, или почему они так медленно осваивали кукурузу и картофель. Брэй в своей монументальной работе о китайском сельском хозяйстве указывает, что рисоводство на заливных полях не поддавалось механизации вследствие небольших оптимальных размеров хозяйства и проблематичности создания машин, которые могли бы заменить ручной труд на рисовых полях без снижения урожайности (Bray, 1954, p. 613). Но как эта теория может объяснить отсутствие прогресса в сельском хозяйстве северного Китая, основанном на выращивании зерновых культур на богарных землях? Джонс (Jones, 1981, p. 921) подчеркивает значение внутренних миграций, игравших роль предохранительного клапана. Потенциал южных лесистых областей в эпоху Сун оттягивал предприимчивых людей с технологического фронтира, «направив династии Мин и Цин на путь статичной экспансии». Однако на Западе колонизация и внутренние миграции как будто бы не препятствовали техническим инновациям. В XII и XIII вв., когда западные европейцы вели колонизацию земель к востоку от реки Эльбы, темпы технического прогресса явно не снизились по сравнению с прежними эпохами.
Амбициозную теорию, объясняющую упадок Китая, выдвинул Элвин (Elvin, 1973), пытавшийся истолковать стагнацию китайской экономики с точки зрения равновесной ловушки «высокого уровня». Согласно модели Элвина, возможности для технических изменений в сельском хозяйстве были ограниченными, а вследствие роста населения возрастал спрос на сельскохозяйственные товары за счет спроса на прочие товары. Более того, он полагает, что демографическое давление привело к дефициту таких необходимых материалов, как дерево и металлы, сократившему возможности для технических изменений. Интересно отметить, что этот подход диаметрально противоположен тем теориям, в которых технические изменения объявляются «ответом» на «проблему» нужды и дефицита. Напротив, по мнению Элвина, дефицит препятствует техническим изменениям. Однако эта теория вступает в противоречие с прочими фактами, и в частности, с резким сокращением населения — по оценкам самого Элвина, уменьшившегося на 35–40% — вследствие эпидемий, опустошавших Китай в 1580–1650 гг. (Elvin, 1973, p. 311), хотя в других источниках приводятся более низкие оценки. Более того, Элвин считает, что рост населения сопровождался сокращением излишков и дохода на душу населения, а потому приводил к снижению спроса на промышленные товары, вследствие чего «делать прибыльные изобретения становилось все более затруднительно» (Elvin, 1973, p. 314). Согласно Перкинсу (Perkins, 1969) и Жерне (Gernet, 1982), значительного снижения дохода или объема производства в сельском хозяйстве, вопреки утверждениям Элвина, не происходило. Более того, такая аргументация превращается в замкнутый круг, поскольку успешные изобретения повышали бы реальный доход и потому становились бы прибыльными. Наконец, что самое важное, Элвин не отличает валового дохода от дохода на душу населения: рыночный спрос определяют как доход на душу населения, так и численность душ на рынке. По крайней мере с точки зрения последней величины успешное изобретательство в Китае должно было быть более прибыльным, чем полагает Элвин, потому что численность населения страны увеличилась с 75 миллионов человек в 1400 г. до 320 миллионов в 1800 г. Наконец, Элвин, утверждая, что спрос возрастал в основном в аграрном секторе, в то время как технические возможности концентрировались в промышленности, игнорирует связь между развитием несельскохозяйственной техники и улучшением продовольственной ситуации благодаря совершенствованию транспорта и производству сельскохозяйственных орудий. Кроме того, никак не объясняется, почему китайские крестьяне в этот период так медленно осваивали плуг со стальным лемехом и поршневые водяные насосы или почему они не желали выращивать такие трудоинтенсивные и высокоурожайные культуры, как картофель.
Проблема выглядит настолько грандиозной, что для объяснения таких крупномасштабных изменений, произошедших в социетальном поведении, заманчиво прибегнуть к какой-либо экзогенной, но относительно простой теории. В частности, привлекательной альтернативой социальным объяснениям представляются факторы, связанные с физиологией или с питанием. Непрерывно возраставшая зависимость Китая от риса как главного источника пищи могла иметь своим следствием дефицит белков, особенно в условиях незначительного потребления мяса и полного отсутствия молочных продуктов. Переход с пшеницы на рис по мере того, как центр тяжести китайского общества смещался на юг, мог вызывать ухудшение общего качества питания. Показательны замечания путешественников о том, что жители Южного Китая отличались более низким ростом по сравнению с северными китайцами, в рационе которых рис занимал меньше места. Не вполне ясно, действительно ли усиливавшаяся зависимость от риса была связана с ростом дефицита белков, однако эта гипотеза явно достойна дальнейшего изучения. От недоедания не обязательно страдали только дети, и вполне возможно, что общий уровень производства продовольствия в отдельных регионах Китая не поспевал за стремительным ростом населения, имея следствием не столько массовый голод, сколько летаргию и отсутствие энергии, характерные для недоедающего населения. В этой связи интересную идею высказывает (но не развивает ее) Джонс (Jones, 1981, p. 6–7), отмечающий, что когда демографический центр тяжести Китая сместился на юг, основную часть полевых работ крестьяне стали производить в теплой стоячей воде, используя в качестве удобрений человеческие фекалии, и это привело к беспрецедентно высокому, по сравнению с Европой, заражению населения паразитами. Распространение эндопаразитических инфекций — и в первую очередь шистосомоза, тесно связанного с земледелием на заливных полях, — могло лишить страну резервов энергичной и гибкой рабочей силы, необходимых для устойчивого технического прогресса. Объяснения макроисторических событий, основанные на людской физиологии, могут показаться надуманными и спекулятивными. Однако связи между изменениями в биологии человеческого социума и экономической историей начали изучаться совсем недавно, и подробно рассмотреть этот вопрос предстоит будущим исследователям.
Согласно популярному объяснению китайской отсталости китайское мировоззрение было по каким-то причинам непригодно для научного и технического прогресса. В знаменитом эссе «Почему в Китае нет науки», изданном в 1922 г., китайский философ Фэн Ю Лан утверждал, что китайская философия по своей природе обращена не вовне, а внутрь человека. Китайцы стремятся покорить душу, а не свое окружение. «Содержание [китайской] мудрости составляли не интеллектуальные знания, а ее функция состояла не в приращении внешних благ», — писал Фэн Ю Лан (цит. по: Needham, 1969, p. 115). Конфуцианская философия считала целью науки и государственного управления поддержание гармоничных отношений в обществе и достижение равновесия между человечеством и его естественным окружением.
Отредактировано 65fil (2021-07-13 09:28:35)







 )
)